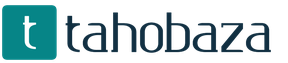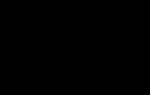XXII.
КУЛЬТУРОТВОРЯЩАЯ ЭНЕРГИЯ
ЭТИКИ БЛАГОГОВЕНИЯ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ
Благоговение перед жизнью, возникшее в мыслящей воле к жизни, включает в себя миро- и жизнеутверждение в тесном переплетении с этикой. Оно, следовательно, постоянно впитывает в себя все идеалы этической культуры и постоянно побуждает их к полемике с действительностью.
Благоговение перед жизнью отбрасывает чисто индивидуалистическое и духовное понимание культуры, представленное в индийской философии и в мистике. Для этой этики внутреннее самосовершенствование представляется только глубоким, но неполным идеалом культуры.
Благоговение перед жизнью не позволяет человеку пренебрегать интересами мира. Оно постоянно заставляет его принимать участие во всем, что совершается вокруг него, и чувствовать свою ответственность за это. Там, где затрагиваются интересы жизни, на развитие которой мы можем оказать свое влияние, наше деятельное участие в ней и наша ответственность за нее проявляются не только в поддержании и развитии этой жизни, как таковой, но и в том, чтобы поднять ее во всех отношениях до уровня высшей ценности.
Человек является существом, на развитие которого мы оказываем влияние. Благоговение перед жизнью, следовательно, заставляет нас желать всеми силами души всех видов прогресса, на которые способны человек и человечество. Оно заставляет нас как нравственных людей постоянно стремиться к развитию культуры.
Даже поверхностное миро- и жизнеутверждение содействует пониманию и желанию культуры. Однако оно не дает при этом человеку необходимой уверенности. Благоговение перед жизнью и обусловленное им стремление всесторонне поднимать человека и человечество до уровня высшей ценности ориентируют человека на совершенные, чистые идеалы культуры, сознательно полемизирующие с действительностью.
Совершенная культура, если ее определять внешне, чисто эмпирически, заключается в том, что в мире реализуются все возможные виды прогресса познания и практики, а также приобщения человека к обществу, что затем оказывает влияние на внутреннее духовное совершенствование человека как на собственную и последнюю цель всякой культуры. Благоговение перед жизнью в состоянии развить далее это понимание культуры и обосновать его внутренней логикой вещей. Оно делает это, определяя содержание процесса внутреннего совершенствования человека как достижение духовности постоянно углубляющегося благоговения перед жизнью.
Для того чтобы придать смысл материальному и духовному прогрессу человека и человечества, обычное понимание культуры вынуждено призвать эволюцию мира, в которой этот прогресс лишается смысла. И здесь оно попадает в зависимость от бесплодного фантазирования. Эволюцию мира, в которой создаваемая человеком и человечеством культура что-то значит, трудно себе представить.
Напротив, в благоговении перед жизнью культура постигает, что она ничего общего не имеет с эволюцией мира, а содержит свое значение в самой себе. Сущность культуры заключается в том, что благоговение перед жизнью, овладевающее нашей волей к жизни, все больше проникает в сознание отдельных людей и всего человечества. Культура есть, следовательно, не явление эволюции мира, но акт переживания нашей воли к жизни, акт, который невозможно, да и нет никакой необходимости, связывать с мировым процессом, познаваемым нами извне.
Вполне достаточно ее определения как совершенствования нашей воли к жизни. Мы не можем исследовать и должны оставить в стороне вопрос о том, что означает наше внутреннее развитие в масштабе развития всего мира. Культура есть не что иное, как наиболее полное развитие воли к жизни, происходящее вследствие всех доступных человеку и человечеству видов прогресса воли к жизни, которая испытывает благоговение перед жизнью во всех ее проявлениях в сфере деятельности человека и которая стремится к совершенствованию в духовности благоговения перед жизнью. Она в такой степени содержит свою ценность в себе самой, что даже уверенность в неизбежной гибели человечества в определенный исторический период не снимает наших забот о культуре.
В качестве процесса, в котором осуществляется высший акт самопознания и реализации воли к жизни, культура имеет мировое значение и не нуждается в каком-либо объяснении мира.
Воля к жизни, преисполненная благоговения перед жизнью, постоянно и глубоко интересуется всеми видами прогресса. К тому же она обладает меркой для правильной его оценки и вырабатывает такие нравственные убеждения, которые способствуют установлению наиболее целесообразного взаимодействия всех видов прогресса.
Для культуры имеют значение три вида прогресса: прогресс познания и практики, прогресс приобщения человека к обществу, прогресс духа.
Четыре идеала образуют культуру: идеал человека, идеал социального и политического единения, идеал религиозно-духовного единения, идеал человечества. На основе этих четырех идеалов мышление полемизирует со всеми видами прогресса.
Прогресс познания имеет непосредственное духовное значение в той мере, в какой он преобразуется в мышлении. Этот прогресс все более убеждает нас в том, что все существующее есть сила, то ость воля к жизни. Он все более расширяет круг воли к жизни, который мы можем познать по аналогии с нашим. Колоссальное значение для нашего осмысления мира имеет тот факт, что мы в каждой клетке открываем индивидуальность жизни, в способности которой к деятельности и переживаниям мы вновь обнаруживаем элементы нашей жизненной силы. Благодаря расширяющимся знаниям мы все больше удивляемся вездесущей тайне жизни. От простодушной наивности мы приходим к глубокой наивности.
Знание дает нам власть над силами природы. Наша подвижность и ваша активность необычайно возрастают. Происходят глубокие изменения наших жизненных условий. Но прогресс еще не означает, что человек получил преимущества для своего развития. Благодаря власти, которую мы приобрели над силами природы, мы освобождаемся от нее и ставим ее себе на службу. Но одновременно мы отрываемся от природы и переходим в такие жизненные условия, неестественность которых таит в себе много опасностей.
Силы природы мы ставим на службу машине. В одной из книг Чжуан-цзы рассказывается, что, когда ученик Конфуция увидел садовника, несущего воду для полива своих грядок, которую он каждый раз доставал из колодца, опускаясь в него вместе с сосудом, он спросил его, не хочет ли он облегчить свою работу. "Каким образом?" - опросил садовник. Ученик Конфуция ответил: "Надо взять деревянный рычаг, передний конец которого легче, а другой конец тяжелее. Тогда можно легко черпать воду из колодца. Такой колодец называется колодцем с журавлем". Садовник, который был мудрецом, сказал: "Я слышал, как мой учитель говорил, что если человек пользуется машиной, то он все свои дела выполняет, как машина. У того, кто выполняет свои дела, как машина, образуется машинное сердце. Тот же, у кого в груди бьется машинное сердце, навсегда теряет чистую простоту".
Опасности, о которых догадывался садовник еще в V веке до н. э., выросли в наше время до угрожающих размеров. Чисто механическая работа стала теперь уделом многих из нас. Оторванные от собственного дома и от кормилицы-земли, мы живем в условиях удручающей материальной несвободы. В результате того переворота, который произвела машина, почти все мы очутились в таких условиях труда, которые слишком сильно регламентируют, сужают и делают весьма напряженной нашу трудовую жизнь. Нам теперь нелегко даются само-осознание и сосредоточенность. Страдает наша семейная жизнь и воспитание детей. Все мы более или менее подвержены опасности превратиться в человека-вещь, вместо того чтобы стать личностью. Итак, разнообразный материальный и духовный ущерб, наносимый человеческой жизни, теневая сторона прогресса познания и практики человека.
Сама способность человека к созданию культуры ставится под вопрос. Отдаваясь целиком тяжелой борьбе за существование, многие из нас уже не в силах думать об идеалах, связанных с культурой. Они больше не проявляют объективности в этом вопросе. Все их домыслы направлены только на улучшение их собственного бытия. Идеалы, которые они при этом выдвигают, выдаются ими за культурные идеалы и вносят тем самым полную неразбериху в понятие культуры.
Для того чтобы оказаться на высоте того положения, которое создалось вследствие как полезных, так и вредных достижений в области познания и практики, мы должны все время думать об идеале человека и бороться с обстоятельствами, с тем, чтобы они как можно меньше тормозили развитие человека к этому идеалу.
Идеал культурного человека есть не что иное, как идеал человека, который в любых условиях сохраняет подлинную человечность. Для нас сейчас быть культурным человеком означает оставаться человеком, несмотря на состояние современной культуры. Только понимание того, что относится к подлинной человечности, может спасти нас в условиях самой прогрессивной внешней культуры от заблуждений относительно самого понятия культуры. Только тогда, когда в современном человеке вновь загорится желание стать подлинным человеком, он сможет выбраться на правильный путь из того тупика, в котором сейчас пребывает, ослепленный своим воображаемым всезнанием и тщеславным всеумением. Только тогда он сможет противостоять давлению жизненных условий, угрожающих его человечности.
В соответствии с идеалом материального и духовного бытия человека этика благоговения перед жизнью требует от человека при максимальном развитии всех его способностей и в условиях самой широкой материальной и духовной свободы бороться за то, чтобы остаться правдивым до отношению к самому себе и развивать в себе сочувствие и деятельное соучастие в судьбах окружающей его жизни. Он должен глубоко продумать свою жизнь и постоянно осознавать всю ответственность, налагаемую на него жизнью. Как страдающий и действующий, он должен сохранить в своем отношении к самому себе и к миру живую духовность. Идеал подлинной человечности состоит для него в том, чтобы оставаться этическим в глубоком миро- и жизнеутверждении благоговения перед жизнью.
Выдвигая в качестве цели культуры подлинную человечность, которой каждый человек может достигнуть, ведя жизнь, наиболее достойную человека, мы должны отказаться от некритичной переоценки внешней стороны культуры, какую мы наблюдаем начиная с конца XIX века. Мы все больше и больше понимаем, что необходимо четко различать в культуре существенное и несущественное. Призрак культуры, лишенной духовности, теряет свою власть над нами. Мы решаемся смотреть правде в глаза и утверждать, что с прогрессом познания и практики достигнуть культуры стало не легче, а тяжелее. Перед нами встает проблема взаимодействия духовного и материального. Мы знаем, что все мы должны бороться с обстоятельствами за свою человечность и заботиться о том, чтобы вновь превратить эту борьбу из бесперспективной в перспективную.
Духовной помощью в этой борьбе является для нас уверенность в том, что ни один человек никогда не должен быть принесен в жертву условиям как человек-вещь. Некоторые так называемые мыслители выдвигают ставшее популярным во многих вариантах утверждение о том, что культура есть достояние элиты, а массовый человек есть лишь средство, с помощью которого создается культура. Тем самым людям, борющимся в тяжелых условиях за свою человечность, отказывают в духовной помощи, на которую они имеют право претендовать.
Так говорит чувство действительности, которому мы подчиняемся. Но благоговение перед жизнью восстает против этого и создает такую мораль, при которой каждому человеку обеспечивается в душе другого человеческая ценность и человеческое достоинство, в которых ему отказывают жизненные обстоятельства. Тем самым борьба теряет свою ожесточенность. Человек должен бороться теперь против условий, но не против условий и людей одновременно.
Далее, мораль благоговения перед жизнью помогает людям, ведущим самую тяжелую борьбу за свою человечность, постоянно укрепляя их веру в идею человечности как ценности, которую необходимо сохранять любой ценой. Она предостерегает их от односторонней борьбы за уменьшение материальной зависимости и заставляет задуматься над тем, чтобы вкладывать в свою жизнь больше человечности и внутренней свободы. Этика благоговения перед жизнью призывает людей охранять свою сосредоточенность и внутреннюю жизнь.
Наступит время приобщения масс к духовной культуре. Многие люди должны задуматься над своей жизнью, над тем, чего они добиваются для себя в борьбе за существование, над тем, какие трудности возникают перед нами в силу обстоятельств, и над тем, в чем они отказывают себе сами. Им недостает духовности, так как они имеют превратное представление о духовности. Они забывают о мышлении, так как для них стало чуждым элементарное размышление о себе самом.
То, что в наше время считается духовным и причисляется к области мышления, не таит в себе ничего того, что люди считают для себя непосредственно необходимым. Но когда люди проникаются идеями благоговения перед жизнью, они обретают мышление, которое трудится на благо всех, и активно приобщаются к духовности, пробивающейся во всех людях. Даже те, кто ведет тяжелейшую борьбу за свою человечность, приходят к самоосознанию и внутренней сосредоточенности, приобретая таким образом силы, которыми они раньше не обладали.
Внутренне соглашаясь с тем, что сохранение культуры зависит прежде всего от активности в нас родников духовной жизни, мы тем не менее начинаем усердно заниматься экономическими и социальными проблемами. Для нас требованием культуры является максимум материальной свободы для максимума людей.
Нас не обескураживает мысль о том, что мы, по-видимому, обладаем весьма незначительной властью над экономическими условиями. Мы знаем, что это в значительной степени обусловлено тем, что до сих пор боролись факты против фактов и страсти против страстей. Из нашего понимания действительности проистекает наша беспомощность. Мы можем получить больше власти над вещами, если смело начнем решать проблемы с помощью морали. Мы уже созрели для этого.
Борьба, которая велась раньше на основе экономических теорий и утопий, была во всех отношениях бесцельной и повергла нас в ужасное состояние. Для нас остается только радикальный поворот, а именно попытаться решить проблемы наиболее целесообразным способом, путем целесообразного понимания и доверия.
Лишь благоговение перед жизнью способно создать необходимую для этого мораль. Понимание и доверие, благодаря которым мы взаимно объединяемся наиболее целесообразным способом и приобретаем столь большую власть над обстоятельствами, возникнут только тогда, когда вое будут находить во всех благоговение перед жизнью других людей, внимательное отношение к их духовному и материальному благополучию как их внутренне осознанные и действенные нравственные убеждения. Меру экономической справедливости, которая приведет людей к согласию, может дать только этика благоговения перед жизнью.
Удастся ли нам осуществить такое развитие? Мы должны сделать это, если не хотим погибнуть и духовно, и физически. Всякий прогресс познания и практики оказывает в конце концов роковое влияние, если им не овладевает сила соответствующего прогресса духовности.
Благодаря власти, которую мы приобретаем над силами природы, мы получаем также опасную власть над людьми. Приобретение ста машин дает какой-либо корпорации или какому-либо предпринимателю также и власть над всеми людьми, которые обслуживают эти машины. Какое-нибудь новое изобретение дает возможность одному человеку одним движением уничтожить не сотни, а десятки тысяч людей.
Никакой борьбой нельзя завоевать ту идею, что люди не должны истреблять друг друга ни при помощи экономической, ни при помощи физической власти. В крайнем случае насильник и мученик лишь поменяются ролями. Помочь может только одно средство - отказ от власти, какую мы имеем по отношению друг к другу. Но это уже акт духовности.
Опьяненные прогрессом теоретического познания и практики, наблюдающимся в наше время, мы забыли позаботиться о прогрессе духа человека. Мы бездумно, незаметно скатились к пессимизму, уверовав во все виды прогресса, кроме духовного прогресса человека и человечества.
Факты зовут нас образумиться подобно тому, как спохватывается вся команда корабля, если он начнет сильно крениться на одну сторону. Для нас стала уже почти невозможной вера в прогресс человека и человечества. С мужеством отчаяния мы должны заставить себя вновь обрести эту веру. Мы все вместе должны желать духовного прогресса человека и человечества и надеяться на него - это и значит круто повернуть руль, и притом удачно, если в последнее мгновение мы сумеем поставить корабль против ветра.
На такое достижение мы будем способны, только обретя веру в мыслящее благоговение перед жизнью. Как только благоговение перед жизнью проникнет в наше мышление и наши нравственные убеждения, чудо станет возможным. Трудно переоценить власть таящейся в нем элементарной, живой духовности.
Государство и церковь - лишь разновидности способов единения человека с человечеством, приобщения его к человечеству. Идеалы этих двух процессов социально-политического и религиозного определяются, следовательно, тем, что эти понятия становятся целесообразными в отношении этического "одухотворения" человека и превращения его в члена человечества.
Тот факт, что идеалы государства и церкви не приняли у нас истинной формы, объясняется нашим пониманием истории. Люди века Просвещения полагали, что церковь и государство следует принять из соображений целесообразности. Они пытались обосновать сущность этих институтов теорией возникновения, причем они поступали в этом случае очень просто привносили свое собственное понимание в историю. Так как им не было знакомо благоговение перед естественными историческими институтами, то они легко рассматривали их с точки зрения требований идеалов разума. Мы же обладаем этим благоговением в такой степени, что даже испытывает страх перед преобразованием в соответствии с теоретическими идеалами всего, что в действительности из них не возникло.
Но государство и церковь не являются только естественными историческими институтами, они одновременно и теоретически необходимы. Мы можем рассматривать эти уже сложившиеся институты лишь с точки зрения их преобразования в разумные и во всех отношениях целесообразные организмы. Только при такой возможности развития их существование полностью осознанно и оправданно.
Естественную историческую природу этих институтов можно понять, лишь рассматривая их при их зарождения. Однако мы не можем этого сделать в случае, когда процесс, о котором мы судим и которому мы принадлежим, уже закончился. Предполагать в естественных институтах наличие самоцели - значит абсолютно исказить понятие превращения людей в членов общества.
Человек и человечество, которые являются не менее естественными категориями, чем исторические категории церкви и государства, лишены своих прав и принесены в жертву этим последним. Подчеркивание момента естественного предназначения исторически возникших институтов не изменяет, однако, нашего требования, чтобы государство и церковь все больше ориентировались бы на идеал человека и человечества как свои естественные полюсы и находили бы в них свою высшую целесообразность.
Культура требует, следовательно, чтобы государство и церковь сохранили способность к дальнейшему развитию. Это обстоятельство предполагает, что взаимовлияние коллектива и индивида примет иные формы. Со сменой поколений индивид все больше и больше жертвовал своей духовной самостоятельностью по отношению к государству и церкви. Он получал свои взгляды от них, вместо того чтобы самому влиять да государство и церковь силою своих убеждений.
Такое ненормальное положение было неизбежным. Индивид не имел ничего, в чем он был бы духовно самостоятельным. Поэтому у него и не было идей, которые он мог бы противопоставить институтам действительности. Он не в состоянии был сформулировать идеалы, которые бы оказывали влияние на действительность. Ему не оставалось ничего другого, как выставить в качестве идеала идеализированную действительность.
Только в миро- и жизневоззрении благоговения перед жизнью человек получает прочное и полноценное определение своего предназначения. Он оценивает действительность в этом случае меркой своих желаний и надежд, ясно и определенно осознаваемых им. Для него уже само собой разумеется, что создаваемый людьми коллектив должен служить целям сохранения и дальнейшего развития жизни, а также целям расцвета истинной духовности.
Решающим обстоятельством для начала этого развития государства и церкви, нацеленного на поощрение культуры, является необходимость того, чтобы люди признали эти институты в плане морали благоговения перед жизнью и вытекающих из нее идеалов. Благодаря этому в государстве и церкви возникнет дух, который будет способствовать их преобразованию в этические и духовные институты.
Нельзя точно предугадать весь ход этого процесса. Но этого и не нужно делать. Идея благоговения перед жизнью есть во всех отношениях целесообразно действующая сила. Дело только в том, чтобы она всегда была достаточно сильной и постоянной и тем самым смогла бы совершить это преобразование.
Чтобы церковь могла выполнить свою задачу, ей надлежит объединить людей в сфере элементарной, сознательной этической религиозности. До сих пор это делалось весьма несовершенно. Насколько далека была церковь от того, чем должна была быть, показало ее абсолютное бессилие во время войны. Она была призвана вызволить людей из борьбы национальных страстей и побудить их к служению высочайшим идеалам. Она не смогла да серьезно и не пыталась это сделать.
Церковь была слишком историческим, организованным и менее всего религиозным учреждением, она полностью подпала под влияние духа времени и присоединила к догмам национализма и практического понимания действительности еще и религию. Только одна церковь, именно община квакеров, пыталась защищать абсолютную значимость благоговения перед жизнью в том виде, как оно изложено в религии Христа.
Мораль благоговения перед жизнью способна содействовать преобразованию церкви в идеал религиозной общины, поскольку она сама глубоко религиозна. В любой исторически сформировавшейся вере она пытается подчеркнуть этическую мистику единения с бесконечной волей, обнаруживающейся в нас как воля любви, как самое элементарное и существенное в набожной смиренности человека. Ставя во главу угла самое жизненное и самое всеобщее этой набожности, мораль благоговения перед жизнью выводит из тупика исторического прошлого различные религиозные общины и указывает им путь взаимопонимания и единства.
Но мораль благоговения перед жизнью делает большее. Она не только выводит существующие исторически сложившиеся религиозные общины из их исторического бытия и направляет их по пути развития к идеалу религиозной общины - она проявляет свои усилия даже там, где все другие оказались бессильными, а именно в области иррелигиозности. Среди нас много неверующих. Они стали такими отчасти в силу бездумности и отсутствия мировоззрения, отчасти потому, что решили порвать с традиционной религией, так как начали сомневаться в ее истинности.
Миро- и жизневоззрение благоговения перед жизнью показывает этим неверующим, что любое истинно мыслящее миро- и жизневоззрение необходимо становится религиозным. Этическая мистика открывает перед ними сущность религии любви и возвращает их на тропу, которую они, по их мнению, покинули навсегда. Преобразование религиозного, а также социального и политического коллектива должно произойти изнутри.
Конечно, вера в возможность преобразования современного государства в культурное государство сама по себе есть уже героический поступок. Современное государство находится в положении беспримерного материального и духовного обнищания. Оно гибнет от своих болезней, разрывается экономическими и политическими противоречиями, оно потеряло всякий моральный авторитет и вообще уже почти не имеет никакого реального авторитета и вынуждено бороться за свою жизнь, преодолевая все новые и новые бедствия. Откуда оно возьмет силы для того, чтобы стать при таком положении культурным государством?
Какие еще кризисы и катастрофы предстоит пережить современному государству, трудно сказать. Его положение особенно опасно еще и потому, что оно далеко перешагнуло границы своей естественной власти. Оно стало чрезвычайно сложным организмом, вмешивающимся во все дела, стремящимся все регулировать и ставшим вследствие этого уже нецелесообразно функционирующим учреждением. Оно стремится подчинить себе как экономическую, так и духовную жизнь. Для деятельности в таких широких масштабах оно содержит аппарат, который сам по себе уже представляет опасность,
Когда-нибудь и как-нибудь современное государство должно освободиться от финансовой нужды и возвратиться к нормальной деятельности. Но остается загадкой, каким образом оно вернется к своему естественному и здоровому состоянию.
Трагичным является, следовательно, то, что мы должны жить в этом несимпатичном и нездоровом современном государстве и надеяться преобразовать его в культурное государство. От нас требуется почти невозможная способность к вере в силу духа. Но миро- и жизнеутверждение дает нам эту силу.
Если уж мы живем в современном государстве и думаем об идеале культурного государства, то прежде всего должны покончить с иллюзиями, которые каждый создает относительно самого себя. Если люди начнут критически относиться к государству, то государство сможет образумиться. Прежде чем государство сможет стать лучше, должно стать общим убеждение всех людей в его нынешней абсолютной несостоятельности.
Одновременно в процессе размышлений о культурном государстве должна родиться общая идея о том, что все внешние мероприятия по укреплению и оздоровлению современного государства, как бы они ни были сами по себе целесообразны, не будут иметь полного эффекта до тех пор, пока не изменится его дух. Таким образом, мы должны придать современному государству насколько хватит силы наших идей - черты духовности и нравственности культурного государства в соответствии с требованиями мышления благоговения перед жизнью. Мы должны потребовать от него, чтобы оно стало духовным и этическим, как это и подобает государству. Прогресс может быть достигнут только в стремлении к истинному идеалу.
Нам возражают, что, судя по опыту истории, государство не может существовать в условиях правдивости, справедливости и этических норм и должно в конце концов искать прибежища в соглашательстве. Но этот опыт вызывает у нас лишь улыбку. Он опровергнут неутешительными результатами. Поэтому мы имеем право утверждать в качестве истины обратное, а именно то, что настоящая сила как государства, так и индивида лежит в духовности и нравственности. Государство живет доверием тех, кто ему принадлежит; оно живет доверием других государств. Оппортунистические действия могут иметь только преходящий успех - в принципе же они определенно ведут к неудаче.
Этическое миро- и жизнеутверждение требует от современного государства, чтобы оно стремилось способствовать становлению этической и духовной личности, и требует этого настойчиво. Его не остановить никакими насмешками. Мудрость завтрашнего дня иная, чем мудрость вчерашнего.
Только благодаря тому, что в государстве станет господствовать новая мораль, оно может достигнуть внутреннего мира. Только благодаря тому, что новая мораль будет действовать и в отношениях между государствами, будет достигнуто взаимопонимание и будут прекращены всякие акции, направленные во вред другому.
Подобных морализующих разговоров о культурном государстве велось уже много. Это верно. Но они приобретают совершенно иное звучание в эпоху, когда современное государство хиреет в нищете, потому что никак не хочет быть духовно этическим. Они приобретают новое значение благодаря тому, что в миро- и жизневоззрении благоговения перед жизнью раскрывается в полном своем объеме и глубине значение этики.
Поэтому мы никоим образом не обязаны определять понятие культурного государства в согласии с требованиями национализма и национальной культуры мы можем вернуться к той глубокой наивности, когда представляют себе государство как управляемое этическими и культурными идеалами. Мы черпаем силы для построения такого культурного государства в вере в силу морали, вытекающей из благоговения перед жизнью.
Сознавая всю ответственность за эти взгляды на культуру, мы обращаем свои взоры к человечеству, минуя народы и государства. Для того, кто поверил в этическое миро- и жизнеутверждение, будущее человека и человечества становится предметом забот и надежд. Тот, кто не испытывает этих забот и надежд, беден духом. Тот, кто преисполнен этих чувств, - богат. Нашим утешением в это трудное время является стремление проложить пути грядущему культурному человечеству, пусть даже не зная, что мы можем увидеть в этом лучшем будущем, а полагаясь только на силу духа.
Кант написал книгу, содержащую правила заключения мира в целях установления прочного мира, под названием "О вечном мире". Он заблуждался. Сами правила заключения мира, как бы хорошо они ни были продуманы и как бы безупречно они ни были сформулированы, бессильны. Только мышление, утверждающее мораль благоговения перед жизнью, способно привести к вечному миру...
Настоящую глубину биоэтическая мысль приобрела только в XX веке, когда этика отношения к животным была сформулирована как философская концепция, как часть современного мировоззрения. Обоснование необходимости этичного отношения к животным дал великий гуманист нашей эпохи доктор Альберт Швейцер (1875-1965 гг.). Он построил стройную этико-философскую систему - универсальную этику, согласно которой этичное отношение к животным довершало долг человека перед окружающим миром. Швейцер говорил: "Ошибкой всех существующих этик было мнение о том, что надо рассматривать отношение человека к человеку, когда в действительности речь идет о том, как относится человек ко всему, что его окружает".
Биография А. Швейцера - это история личного подвига, самоотвержения во имя страдающего человечества и всего живого. Наряду с помощью людям, Швейцер не мог пройти мимо страдающих животных. В созданной им больнице в Центральной Африке находили приют и помощь животные. Чем выше в духовном отношении стоит человек, считает Швейцер, тем с большим благоговением он относится к любой жизни.
А. Швейцер родился в Эльзасе, принадлежавшем Германии; окончил два университета и получил звания доктора философских и доктора богословских наук; прославил себя как исследователь и выдающийся исполнитель органной музыки Иоганна Себастьяна Баха, другими словами, сделал блестящую карьеру, когда его размышления о доброте и справедливости, о цели его жизни заставили его внезапно изменить всю его жизнь. А. Швейцер пришел к решению, что он должен посвятить себя помощи страдающему человечеству; он видел сосредоточие этих страданий в Африке, среди народа, угнетенного европейскими завоевателями. Он увидел свой моральный долг в служении именно этим людям, перед которыми испытывал чувство вины, как европеец. И А. Швейцер заканчивает еще один университет, получает степень доктора медицинских наук, женится на девушке, которая ждала его все годы, пока он заканчивал университет, и уезжает в джунгли Центральной Африки, в страну со столь плохим климатом, что его жена вынуждена была через несколько лет вернуться в Европу. Здесь один, в первые годы без помощников и какой-либо поддержки, своими руками и на свои деньги, А. Швейцер построил здание больницы для африканцев и стал лечить их. Здесь он и прожил многие десятилетия, до смерти в глубокой старости; здесь он пережил и свою славу, когда о нем стали писать; к нему приезжали ученики и помощники, и его именем стали называть больницы.
Но жить по справедливости среди людей было еще не все для А. Швейцера. Он видел вокруг себя огромный мир животных, которому не было места в этических системах человека. С ранних лет А. Швейцер испытывал сострадание ко всем живым и страдающим существам. Он рассказывал, что две встречи в детстве определили его дальнейшую жизнь, его мироощущение. Первая встреча - со стариком-евреем, над которым издевались на улицах; вторая встреча - сцена истязания ослика. Он запомнил эти картины, эти две жертвы стали для него символом страдания, несправедливости в мире, и на всю жизнь он сохранил отвращение к шовинизму и к жестокому обращению с животными.
Альберт Швейцер был необыкновенным ребенком. Он пишет: "Насколько я могу себя помнить, я всегда мучился из-за тех страданий, которые я наблюдал в окружающем мире... Особенно я мучился из-за бедных животных, на долю которых приходится столько боли и лишений". "Мне было совершенно непонятно, ... почему я должен был в своих вечерних молитвах молиться только за людей. Поэтому... я безмолвно добавлял свою молитву, которую я придумал, за всех живых существ".
Она звучала так: Боже милостивый, защити и благослови всех живых существ. Сохрани их от зла и дай им спать в покое".
"Дважды в компании с другими мальчиками я ходил удить рыбу удочкой. Но мой ужас - когда я увидел жестокое обращение с червем и разорванные рты рыб, когда их поймали, - не позволил мне продолжать".
А. Швейцер рассказывает, как его в детстве позвал товарищ стрелять из рогаток птиц: он не хотел идти, но боялся насмешек. Однако в тот момент, когда он прицелился в птицу, раздался звон церковного колокола. Мальчик воспринял это как глас с небес. Он бросил рогатку и убежал. Вспоминая описанный случай позднее, Швейцер стал считать это событие поворотным в своей жизни.
Животные вызывали у А. Швейцера глубокую любовь и восхищение. "Чтобы понять, есть ли у животных душа, надо самому иметь душу", - говорил он полу в шутку, полу всерьез. На его столе обычно стояла чашка со сладкой водой, к которой приходили лакомиться муравьи.
Однажды, когда Швейцер медленно плыл по реке на закате и наблюдал величественную картину купания гиппопотамов в реке, ему представилась стройная система этики, где животные имели свое место, как и люди. Он отразил эти мысли в главе своего труда "Культура и этика", называвшейся "Благоговение перед жизнью". В этой главе он утверждал, что этика, которая не рассматривает взаимоотношения человека и других живых существ, неполноценна: "Он (человек) станет этичным только тогда, когда жизнь как таковая, жизнь животных и растений будет для него так же священна, как жизнь человека, и тогда он посвятит себя жизни, находящейся в бедствии. Только универсальная этика переживаний, ответственность которой перед всем живым неограничена, дает возможность обосновывать себя в мышлении."
В его книге "Культура и этика" А. Швейцер критикует мироощущение западного человека. Он считает, что философия начинает заниматься все больше и больше обсуждением проблем чисто академического характера, т. е. вопросов второстепенного значения. Она потеряла связь с такими простыми, основными вопросами, которые касаются жизни и мира и которые человек призван ставить и решать. По мнению Швейцера, следует развивать этическое мышление, которое утверждает жизнь как проявление духовной, внутренней связи с миром. Человек должен почувствовать, как считает Швейцер, свою близость с любой формой жизни, с которой он входит в соприкосновение. "Как мне подсказывает опыт, - говорит Швейцер, - этика является внутренним побуждением проявлять ко всему живому такое же уважение, которое я испытываю по отношению к самому себе. Добро заключается в том, чтобы поддерживать жизнь, сохранять ее, и зло в том, чтобы разрушать жизнь и препятствовать ей".
Говоря о современных ему философских течениях, которые
игнорировали отношение к животным, Швейцер приводил такое сравнение: "Как домохозяйка, которая выскребла полы и следит, чтобы дверь была закрыта и не вошла собака с грязными лапами, и не испортила всю ее работу, так же религиозные мыслители философы старались, чтобы в их этической системе не появилось никаких животных, присутствие которых могло бы опрокинуть ее".
А. Швейцер, имея медицинское образование, знал, что такое жестокое обращение с животными во время экспериментов; он говорил:
"Те люди, которые проводят эксперименты над животными связанные с разработкой новых операций или с применением новых медикаментов, те, которые прививают животным болезни чтобы использовать затем полученные результаты для лечения людей, никогда не должны вообще успокаивать себя тем, что их жестокие действия преследуют благородные цели. В каждом отдельном случае они должны взвесить, существует ли в действительности необходимость приносить это животное в жертву человечеству. Они должны быть постоянно обеспокоены тем чтобы ослабить боль, насколько это возможно. Как часто ещё кощунствуют в научно-исследовательских институтах, не применяя наркоза, чтобы избавить себя от лишних хлопот и сэкономить время! Как много делаем мы еще зла, когда подвергаем животных ужасным мукам, чтобы продемонстрировать студентам и без того хорошо известные явления!"
Принцип уважения к жизни, разработанный Швейцером, характеризуется тремя моментами: во-первых, этот принцип всеобъемлющ. Швейцер не считает благоговение перед жизнью одним из принципов, пусть даже одним из наиболее важных. Он считает, что это единственный принцип, лежащий в основе нравственности. Швейцер считает, что даже любовь и сострадание, хотя это чрезвычайно важные понятия, - лишь составная часть понятия благоговения перед жизнью. Сострадание, которое представляет собой интерес к страданиям живого существа, - слишком узкое понятие для того, чтобы представлять всю суть этики. Этика благоговения перед жизнью рассматривает также и чувства живых существ, условия их существования, радости живого существа, его стремление жить и стремление к самосовершенствованию.
Во-вторых, этот принцип является универсальным. Швейцер считает, что принцип благоговения перед жизнью относится ко всем формам жизни: к людям, к зверям, к насекомым, к растениям. Этичный человек не спрашивает, в какой степени то или иное существо заслуживает сочувствия или является ценным, или в какой степени оно способно чувствовать. "Жизнь как таковая священна для него", - утверждает Швейцер. Этичный человек не отрывает листка с дерева, не срывает цветка и стремится не наступать на насекомых. Летом, работая при свете, он предпочитает держать окна закрытыми и дышать душным воздухом, но не смотреть, как одно насекомое за другим падает с опаленными крылышками ему на стол. Если он гуляет по дороге после сильного дождя и видит, как вылезают из недр дождевые черви, то он испытывает беспокойство, что они слишком сильно высохнут на солнце и погибнут, прежде чем успеют снова зарыться в землю. И он поднимает их и кладет на траву. Если он видит насекомое, попавшее в лужу, то он останавливается и достает его листком или травинкой для того, чтобы спасти его. И он не боится, что над ним будут смеяться из-за того, что он сентиментален. Швейцер говорит: "Это судьба любой истины - быть предметом насмешек до тех пор, пока эта истина не будет общепризнанной."
Третий принцип - безграничность. Швейцер не вступает ни в какие дискуссии относительно того, как широко распространяется этика, на кого она распространяется. Он говорит: "Этика - это безграничная ответственность перед всем, что живет".
Швейцер ставит перед собой задачу пробудить в современном ему обществе стремление к созданию философски обоснованного и практически применимого оптимистически-этического мировоззрения, считая основной причиной упадка культуры в западном обществе отсутствие такого мировоззрения.
При этом он полагает, что необходимо отказаться от оптимистически-этической интерпретации мира в любой ее форме, что ни миро- и жизнеутверждение, ни этику невозможно обосновать, исходя из познания мира. Он провозглашает независимость жизневоззрения (этики) от мировоззрения, пессимизм познания и оптимизм действия, практики. Оптимизм этот, как полагает Швейцер, коренится в нашей воле к жизни, наиболее непосредственным и наиболее глубоким проявлением которой является благоговение перед жизнью.
Этическое таит в себе высшую правду и высшую целесообразность. Таковы основные вехи мировоззрения Швейцера.
Очень длинно:
Этика – основа культуры
То, что остро почувствовал Швейцер-человек – внутренний надлом европейской культуры, - сосредоточенно исследовал Швейцер-философ. Культура, по его мнению, находится в глубоком кризисе, основные формы проявления которого – господство материального над духовным, общества над индивидом. Материальный прогресс, считает Швейцер, не вдохновляется более идеалами разума, а общество обезличивающим, деморализующим образом подчинило индивида своим целям и институтам.
Культура выражается в материальном и духовном прогрессе (Швейцер не проводит различия между понятиями культуры и цивилизации), росте благосостояния человека и общества, но ни как не сводится к этому. Самое существенное в ней – этическая основа, та высокая человеческая цель, ради которой она и существует. Воля к прогрессу в его универсальном и собственно этическом аспектах производна от мировоззрения, утверждающего мир и жизнь как ценности сами по себе. Кризис культуры в конечном счете обусловлен кризисом мировоззрения.
Европейцам кажется, замечает Швейцер, что стремления к прогрессу является чем-то естественным и само собой разумеющимся. А между тем это не так. До того и для того, чтобы в людях пробудилась жажда деятельности, в них должен сформироваться оптимистический взгляд на мир. Народы, находящиеся на примитивной стадии и не выработавшие цельного мировоззрения, не обнаруживают ясно выраженной воли к прогрессу. Кроме того, существуют мировоззрения, утверждающие отрицательное отношение к миру; так, индийская мысль ориентировала людей на практическую бездеятельность, жизненную пассивность. Пессимизм мышления закрывает путь оптимизму действия. Да и в истории европейской культуры миро – и жизнеутверждающее мировоззрение возникает в новое время, во времена античности и средневековья оно существует в лучшем случае в зачаточном виде. Только Возрождение осуществило окончательный поворот к миро- и жизнеутверждению, и, что особенно важно, оплодотворило его христианской этикой любви, освободившейся от пессимистического мировоззрения. Так возникает идеал преобразования действительности на этических началах. Проснувшийся в людях Нового времени дух преобразования, воля к прогрессу восходят именно к этому миро – и жизнеутверждающему мировоззрения. Только новое отношение к человеку и к миру пробуждает потребность в создании материальной и духовной реальности, отвечающей высокому назначению человека и человечества. Мировоззрение, полагающее, что действительность можно преобразовать в соответствии с идеалами, естественным образом трансформируется в волю к прогрессу. Это и порождает культуру Нового времени.
Однако судьба европейского мышления сложилась трагически. Суть трагедии Швейцер видит в утрате первоначальной связи миро- и жизнеутверждения с этическими идеалами. В результате этого воля к прогрессу ограничилась стремлением лишь к внешним успехам, росту благосостояния, простому накоплению знаний и умений. Культура лишилась своего исконного и самого глубокого предназначения – способствовать духовному и нравственному возвышению человека и человечества. Она потеряла смысл, потеряла ориентир, который позволяет отличать более ценное от менее ценного. Это очень важный момент в философии культуры Швейцера: мировоззрение миро- и жизнеутверждения только тогда становится подлинной культуротворящей силой, когда оно соединено с этикой. Здесь и произошёл разрыв.
Основная причина, как считает Швейцер, состоит в том, что этика миро- и жизнеутверждения не была рационально обосновано.она была порождена мышлением благородным и вдохновенным, но недостаточно глубоким. Внутренняя связь между оптимистическим мировоззрением и этикой была схвачена на уровне ощущения, эмпирических констатаций и желаний, но не была логически доказана. А на всеобщность и устойчивость может претендовать только то, что прочно закреплено в мышлении людей. Поэтому трагический исход культуры был предрешен. Не смотря на все героические попытки философов, прежде всего Гегеля и Канта, этико-гуманистический идеал, сформулированный просветителями Нового времени, не выдержал натиска мышления, критерии которого в XIX веке с развитием науки стали более тонкими, строгими, взыскательными. И вся проблема, чтобы рационально обосновать этический идеал.
Святость жизни
Размышляя над аксиоматическим основанием научного метода, обозначая «фундамент», на котором можно возвести здание мировоззрения, Декарт сформулировал свой знаменитый тезис «Я мыслю, следовательно, я существую». Такое начало, считает Швейцер, обрекает Декарта, на то, чтобы оставаться пленником царства абстракций. Всё, что следует из этого «я мыслю», не выводит человек за пределы самой мысли. Декартово решение проблемы не удовлетворяет Швейцера. Мысль всегда предметна, содержательна, она всегда есть мысль о чем-то. Швейцер пытается выяснить первичную и постоянную определенность мысли, её специфическую объективность, таким элементарным, непосредственным, постоянно пребывающим фактом сознания является воля к жизни. Швейцер формулирует свою аксиому: «Я – жизнь, которая хочет жить, я- жизнь среди жизни, которая хочет жить». Всегда, когда человек думает о себе своём месте в мире, он утверждает себя как волю к жизни среди таких же воль к жизни. В сущности, Швейцер перевернул формулу Декарта, положив о основу самоидентификации человеческого сознания не факт мысли, а факт существования. Его принцип, если пользоваться терминами Декарта, можно было бы выразить так: «Я существую, следовательно, я мыслю». Существование, выраженное в воле к жизни и утверждающее себя положительно как удовольствие и отрицательно как страдание, он рассматривает в качестве последней реальности и действительного предмета мысли. Когда человек мыслит в чистом виде, он находит в себе не мысль, а волю к жизни, выраженную в мысли.
Воля жизни Швейцера в отличие от «я мыслю» Декарта говорит о том, что делать, позволяет – и более того, требует от него выявить отношение к себе и к окружающему миру. Воля к жизни приводит человека в деятельное состояние, вынуждает его тем или иным образом к ней отнестись. Это отношение может быть негативно, с позиции отрицания воли к жизни. И тогда мысль не может состояться, развернуть себя с логической необходимостью, ибо она приходит в противоречие сама с собой.. отрицание воли к жизни, осуществленное и последовательно, не может окончится ничем иным, кроме как её фактическим уничтожением. Самоубийство оказывается той точкой, которая логически завершает предложение, формулирующее отрицание воли к жизни. Начало в этом случае одновременно становится и концом. Отрицание воли к жизни противоестественно и, самое главное, не может быть обосновано в логически последовательном мышлении. Человек действует естественно и истинно только тогда, когда он утверждает волю к жизни. Жизнеспособна только мысль, утверждающая волю к жизни. Человек не просто осознает то, что движет им инстинктивно, неосознанно. Он вместе с тем выявляет особое, сугубо человеческое – благоговейное – отношение к жизни. Адекватное познание воли к жизни есть вместе с тем её углубление и возвышение. Воля к жизни утверждает себя как таковая и становится началом мышления, лишь осознавая свою идентичность во всех своих многообразных проявлениях. В мыслящем человеке воля к жизни приходит в согласие с собой и такое согласие достигается деятельностью, направляемой благоговением перед жизнью. Тогда мыслящий человек становится этической личностью, а утверждение его воли к жизни перерастает в нравственную задачу. «Этика заключается, следовательно, в том, что я испытываю побуждение высказывать равное благоговение перед жизнью как по отношению к моей воле к жизни, так и по отношению к любой другой. В этом и состоит основной принцип нравственного. Добро – то, что служит сохранению и развитию жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей».
Этика Швейцера является универсальной, его понимание гуманизма охватывает также и природу, а этика человеческих взаимоотношений выступает в его рамках лишь особым случаем.
Этика и мистика
Смысл человеческой жизни не может быть выведен из смысла бытия, а этика – из гносеологии.
Этика, считает Швейцер, должна родиться из мистики. При этом мистику он определяет как прорыв земного в неземное, временного в вечное. Мистика бывает наивной и завершенной; наивная мистика достигает приобщения к неземному и вечному путем мистерии, магического акта, завершенная – путем умозрения. Тем самым проблема возможности этики приобретает ещё большую остроту, ибо неземное и вечное не может быть выражено в языке. Язык способен охватить лишь земную и конечную реальность. Эту неразрешимую проблему Альберт Швейцер решил с такой же простотой. Этика возможна не как знание, а как действие, индивидуальный выбор, поведение.
«Истинная этика начинается там, где перестают пользоваться словами». Это высказывание Швейцера нельзя рассматривать только в педагогическом аспекте, как подчеркивание первостепенной роли личного примера в нравственном воспитании. Гораздо более важно его творческое содержание. Поскольку этика есть бытие, данное как воля к жизни, то и разворачиваться она может в бытийной плоскости. Она совпадает с волей к жизни, которая утверждает себя солидарно с любой другой воле к жизни. Этика существует как этическое действие, соединяющее индивида со всеми другими живыми существами и выводящее его в ту область неземного и вечного, которая закрыта для языка и логически упорядоченного знания. «Воля к жизни проявляется во мне как воля к жизни, стремящаяся соединиться с другой волей к жизни. Этот факт – мой свет в темноте. Я свободен от того незнания, в котором пребывает мир. Я избавлен от мира. Благоговение перед жизнью наполнило меня таким беспокойством, которого мри не знает. Я черпаю в нем блаженство, которого мне не может дать мир. И когда в этом ином, чем мир, бытии некто другой и я понимаем друг друга и охотно помогаем друг другу там, где одна воля мучила бы другую, то это означает, что раздвоенность воли к жизни ликвидирована». Только через волю к жизни, через деятельное возвышение и утверждение жизни осуществляется «мистика этического единения с бытием».
Этика, как её понимает Швейцер, и научное знание – разнородные явления: этика есть приобщение к вечному, абсолютному, а научное знание всегда конечно, относительно, этика творит бытие, а научное знание описывает его. Этика умирает в словах, застывая в них, словно магма в горных породах, а научное знание только через язык и рождается. Но из этого было бы неверно делать вывод, будто этика может осуществляться вне мышления. Этика есть особый способ бытия в мире, живое отношение к живой жизни, которое может, однако, обрести бытийную устойчивость только как сознательное, ускоренное в мышлении.
Воля к жизни раздвоена опасным образом. Одна жизни утверждает себя за счёт другой. Поэтому самоутверждение воли к жизни в её стремлении к солидарному слиянию с любой другой волей к жизни не может протекать стихийно. Только в человеке как сознательном существе воля к жизни проистекает из мышления, которое доказывает, что этика содержит свою необходимость в себе и что индивид должен «повиноваться высшему откровению воли к жизни» в себе. И ничему больше. Жизнеутверждающее начало воли к жизни находит своё продолжение и выражение в этическом мышлении. Мышление дает индивиду силу противостоять жизнеотрицанию каждый раз, когда его жизнь сталкивается с другой жизнью. «Сознательное и по свое1ё воле я отдаюсь бытию. Я начинаю служить идеалам, которые пробуждаются во мне, становлюсь силой, подобной той, которая так загадочно действует в природе. Таким путем я придаю внутренний смысл свою существованию». Здесь развивается единственная в своем роде диалектика мистики и рациональности, столь характерная для этического мировоззрения Швейцера. Последовательная рациональность, не находя «вещества» этики в эмпирическом мире, постулирует её мистическую сущность. Мистическая природа этики реализуется в рационально осмысленных и санкционированных разумом действиях человека.
Этика традиционно именуется практической философией. Она рассматривается как основной канал выхода философии в практику. Философские знания о мире оказывают обратное воздействие на него, приобретают практическую действительность в той мере, в какой они трансформируются в идеальные модели и нормы человеческого поведения. Здесь действует цепочка: философия – этические каноны – индивидуальный опыт. В этом смысле этику можно было бы назвать философской практикой. Этика Швейцера выпадает из традиции, не подпадает под привычное понятие практической философии. Она не признает ни каких связей с гносеологией и является непосредственным выражением бытийной силы, которая предстает в индивиде как воля к жизни. Это не отраженное, но заговорившее бытие. Она есть адекватный, усиленный мышлением способ существования бытия, практическое утверждение воли к жизни.
Чистая совесть – изобретения дьявола
Оригинально и поразительно ясно решает Швейцер самый трудный для этики вопрос о путях её соединения с жизнью
Этика конструирует идеальную нравственность по контрасту с реальным миром. Признание несовершенства человеческих нравов является условием, содержанием и оправданием нормативной модели, задающей иную перспективу межчеловеческих отношений. Но чем решительней идеальная мораль порывает с идеальным миром, чем выше она взмывает в поднебесье духа, тем трудней ей пройти обратный путь, спуститься с небес идеальных устремлений на землю практической жизнедеятельности. Человек, желающий быть одновременно моральным и практически деятельным, оказывается зажатым между двумя полюсами: святостью и цинизмом. Чтобы остаться верным идеальным предписаниям морали, он вынужден сторониться активной борьбы, стать отшельником. Если же человек стремиться стать деятельным, добиваться жизненного успеха, то он должен быть готовым преступить моральные заперты, как бесцеремонно преступали их люди, достигавшие вершин земной власти. Реальное поведение реальных людей всегда является компромиссом между тем и другим. челов0435еское благо, складывается из удовольствия и разумения, его можно уподобить напитку, представляющему собой хмельного меда и отрезвляющей воды. Каковы пределы жизненного компромисса: как остаться моральным, не превращаясь в отшельника-святого, и как сохранить социальную активность, не впадая в цинизм?
Альберт Швейцер решает его, отрицая саму идею этического компромисса. Напиток жизни, приготовленный по рецепту доктора Швейцера, отличается тем. Что в нем бодрящая струя чистой воды никогда не смешивается с отравляющей струей хмельного напитка. Этика в ее практическом выражении совпадает у него со следованием основному принципу нравственного, с благоговением перед жизнью. Любое отступление от этого принципа – моральное зло. Этический принцип Швейцера существенного отличается от аналогических принципов или законов, которые формировались в истории этики. Прежде всего он составляет не просто основное, но единственное и исчерпывающее содержание нормативной модели нравственно достойного поведения. Этика Швейцера не содержит системы норм, она предлагает и предписывает единственное правило – благоговейное отношение к жизни всюду и всегда, когда индивид встречается с другими проявлениями воли к жизни. Вместе с тем этический принцип Швейцера является содержательно определенным и, что особенно важно, самоочевидным. Чтобы установить соответствие своих действий данному принципу, индивиду не требуется прибегать к каким-либо дополнительным логическим процедурам. Сделать это для него также просто, как и выяснить, светит ли на небе солнце или нет.
Мыслители древности выдвигали нравственные требования (пифагорейский запрет употребления в пищу бобов или ветхозаветное «не убий»), идентификация которых не представляла никакой трудности. Однако в дальнейшем философы всё более стали склоняться к обобщенным и формализованным принципам, имевшим отчасти головоломный характер. Скажем, установить меру соответствия какого-либо поступка категорическому императиву Канта - дело отнюдь не легкое. Сам Кант прибегал к сложным рассуждениям, чтобы ответить на вопрос: может ли крайне нуждающийся человек брать деньги в долг, обещая вернуть их, хотя хорошо знает, что не в состоянии будет это сделать. Убедительность его рассуждений неоднократно и не без основания становилась под сомнения, в частности Гегелем. К тому же следует учесть, что человек психологически более склонен к моральной софистике, чем к беспристрастному моральному анализу своих поступков. Он склонен выдавать совершаемое им зло за добро. Императив Швейцера блокирует эту хитрость морального сознания. Ведь во внимание принимаются только прямые действия, направленные на утверждение воли к жизни. А здесь при всем желании обмануться достаточно трудно. Срывая цветок, человек совершает зло, спасая раненное животное, творит добро. Это так просто, так элементарно. И эту элементарность, узнаваемость в каждом акте человеческого поведения Швейцер считал важнейшим достоинством открытой им моральной истины. Одно из важнейших условий – не предаваться абстракциям, а оставаться элементарным.
Реальность, в границах которой действует индивид, такова, что созидающая воля к жизни неизбежно оказывается также разрушающей. «Мир представляет собой жестокую драму раздвоения воли к жизни». Одно живое существо утверждает себя в нем за счет другого. Жестокая проза жизни противоречит требованиям нравственного принципа. Этика и необходимость жизни находятся в непримиримом, напряженном противостоянии. Человеку не дано вырваться из этой ситуации раздвоенности. Как же ему вести себя, как относится к этим двум силам, раздирающим его на части? Швейцер отвечает: принять ситуацию такой, какова она есть, иметь мужество и мудрость видеть белое белым, а черное черным и не пытаться смешивать их в серую массу. Человек – не ангел, и, как существо земное, плотское, он не может не наносить вреда другим жизням. Однако человек (именно это делает его поведение этическим, нравственным) может сознательно следовать в своих действиях принципу благоговения перед жизнью, способствуя её утверждению всюду, где это возможно, и сводя к минимуму вред, сопряженной с его существованием и деятельностью.
В мире, где жизнеутверждение неразрывно переплетено с жизнеотрицанием, нравственный человек сознательно, целенаправленно и непоколебимо берет курс на жизнеутверждение. Любое (даже и минимально необходимое) принижение и уничтожение жизни он воспринимает как зло. В этике Швейцера понятие добра и зла чётко отделены друг от друга. Добро есть добро. Его не может быть много или мало. Оно есть или его нет. Точно так же и зло остается злом даже тогда, когда оно абсолютно неизбежно. Поэтому человек обречен жить с нечистой совестью. Швейцер, подобно Канту, придает концептуальный смысл утверждению о том, что чистая совесть – изобретение дьявола.
Мистическая основа этики благоговения перед жизнью и проистекающее из нее абсолютное противопоставление добра и необходимости обусловили самую примечательную и сильную сторону мировоззрения Швейцера – его принципиальную неморалистичность. Этика Швейцера освобождает бытие, практическую деятельность от тирании и моральных норм, от пут жесткой моральной регламентации. Она ограничивается формулированием общей цели деятельности человека, её постоянной сверхзадачи, предлагая в том, что касается конкретных действий, их предметного содержания и организации, руководствоваться сугубо рациональными соображениями, логикой самого дела. Так, отправляясь в путь, мы выясняем, куда и как двигаться, и здесь решающее слово при выборе направления и цели принадлежит этике. Но когда направление пути известно, то здесь значение приобретают прагматические возможности: средства передвижения, состояние дороги, квалификация водителя и т.д.
Этика противоречит целесообразности, и именно это позволяет ей быть наиболее целесообразной; она выше обстоятельств и тем дает возможность в максимальной степени сообразовываться с ними. Этика говорит лишь одно: добро – это сохранение и развитие жизни, зло – уничтожение и принижение её. И всё. А конкретные способы осуществления этого зависят от обстоятельств, умения, силы, воли, практической смекалки и т.п. индивида. И при этом этика ясно сознает, что зло можно уменьшить, но избежать его полностью невозможно. Поэтому она не выдвигает абсолютного запрета на уничтожение и принижения жизни, она только обязывает всегда считать такое уничтожение и принижением злом.
Этика благоговения перед жизнью есть этик личности, она может реализоваться только в индивидуальном выборе. Швейцер считает, что этика перестает быть этикой, как только начинает выступать от имени общества. Выдвигаемые им аргументы достаточно убедительны. Общество не может не относиться к человеку как к средству, не может не рассматривать людей в качестве своих исполнительных органов: оно неизбежно оказывается в ситуации, вынуждающей оплачивать так называемое общее благо ценой счастья отдельных индивидов. Моральные апелляции или регламенты, которыми оперирует общество, по существу, являются хитростью, предназначенной для того, чтобы добиться мытьем того. Чего не удается добиться катаньем, принуждением и законом. Поэтому этика личности должна быть на чеку и испытывать постоянное недоверие к идеалам общества. И уж что ни в коем случае нельзя передоверять обществу, так это роль этического воспитателя. В этической критике общества Швейцер резок и определен: «Гибель культуры происходит в следствии того, что создание этики перепоручается государству».
В принципе Швейцер допускает перспективу превращения общества из естественного образования в этическое. Для этого оно должно приобрести характер нравственной личности. Вообще этика в его понимании – целая звуковая гамма. Она начинает с живых звуков этики личного смирения, переходит в аккорды этики активного личностного самосовершенствования, за ними следуют приглушенные шумы этики общества, и «наконец, звук затухает в законодательных нормах общества, которые уже только условно можно назвать этическими». Однако идея возвышения этики личности до этики общества, идея возможности культурного государства осталась у Швейцера в зачаточном виде. Он не видел путей расширения этики личности до этики общества и в то же время исключал возможность трансформации этики общества в этику личности. В своей концепции он странным образом не придавал сколько-нибудь существенного значения различиям в строении общества, его форм. И это, пожалуй, самый слабый пункт его мировоззрения: в нем гуманность оказалась противопоставленной праву, живое служение людям – профессионально организованной деятельности, индивидуальный выбор – общественному.

Альбе́рт Шве́йцер (нем. Albert Schweitzer; 14 января 1875, Кайзерсберг, Верхний Эльзас — 4 сентября 1965, Ламбарене)
Основное философское произведение А. Швейцера. Является второй по порядку и основной по содержанию частью обширного труда «Философия культуры». В первой части «Упадок и возрождение культуры» (также опубликована в 1923, обычно печатается вместе с «Культурой и этикой») Швейцер связывает кризис европейской культуры с превалированием материального прогресса над духовным, общества над индивидом; основную причину упадка он видит в утрате этических идеалов. «Культура и этика» состоит из 22 глав. В первых четырех главах Швейцер анализирует связь культуры, мировоззрения и этики и приходит к выводу, что «среди сил, формирующих действительность, нравственность является первой» (гл. 3. М., 1973, с. 115), а усилия мышления постичь эту силу сводятся к поиску основного - нравственного - принципа (закона), который должен быть глубоким, всеохватывающим и одновременно элементарным. Значительную часть работы составляет очерк европейской этики. Классифицируя различные этические учения по способу разрешения в них проблемы нравственной основы мировоззрения и культуры, Швейцер выделяет три варианта этики: 1) этика разумного удовольствия, свойственная античному мышлению; оценивается как совершенно неудовлетворительная, т.к. она игнорирует существенный для морали факт самоотречения; 2) этика самоотречения, получившая развитие в Новое время; ее основной недостаток связан с неспособностью объяснить, почему индивид жертвует собой ради других; 3) этика самосовершенствования, представленная именами Платона, Спинозы, Фихте, Шопенгауэра и др.; была ближе всех к истине, однако не смогла раскрыть нравственную основу самосовершенствования. Отрицательные результаты этических исканий, по мнению Швейцера, связаны с тем, что философы ошибочно ставили этику в зависимость от гносеологии, видели в морали продолжение естественного процесса в человеке и рассматривали ее как выражение общественной воли. В последних двух главах труда излагается собственное жизнеучение Швейцера - этика благоговения перед жизнью. Не ограничиваясь взаимоотношениями людей, Швейцер утверждает ответственность за все, что живет, рассматривая в качестве морального зла всякий вред жизни (даже сорванный полевой цветок); его этическое учение драматизирует существование человека непризнанием «взаимной компенсации этики и необходимости» и тезисом о том, что чистая совесть является изобретением дьявола.
«Культура и этика» — эта проблема становится в наше время все более актуальной, ибо развитие цивилизации в XX веке уже подошло к такому рубежу, когда лишенная этического начала культура современного общества все более угрожает благополучию и существованию человека на Земле. Необходимо в полной мере оценить ту опасность, которую представляет для будущего человечества так называемая - «массовая культура» современного общества, не имеющая прочных нравственных основ, пропитанная идеями насилия, разбоя, культом секса и непрерывно медлительно растлевающая человеческое достоинство многих поколений.
Часть Первая. Распад и возрождение культуры.
Часть Вторая. КУЛЬТУРА И ЭТИКА.
Перевод с немецкого Н.А.Захарченко и Г.В.Колшанского
Общая редакция и предисловие проф. В.А.Карпушина
Москва: "Прогресс", 1973
Albert Schweitzer. Kultur und Ethik. München, 1960
Предисловие В. Карпушин:
«Швейцер ставит перед собой задачу пробудить в современном ему обществе стремление к созданию философски обоснованного и практически применимого оптимистически-этического мировоззрения, считая основной причиной упадка культуры в западном обществе отсутствие такого мировоззрения.»
«Оптимизм этот, как полагает Швейцер, коренится в нашей воле к жизни, наиболее непосредственным и наиболее глубоким проявлением которой является благоговение перед жизнью. »
«Этическое таит в себе высшую правду и высшую целесообразность.»
«Необходимо в полной мере оценить ту опасность, которую представляет для будущего человечества так называемая «массовая культура» буржуазного общества, не имеющая прочных нравственных основ, пропитанная идеями насилия, разбоя, культом секса и непрерывно и длительно растлевающая человеческое достоинство многих поколений.»
«Философия культуры Альберта Швейцера, разрабатывавшаяся им на протяжении всей его жизни, состоят из четырех частей.
Первую часть образует книга «Распад и возрождение культуры».
Наброски этой книги были сделаны Швейцером, по его собственному признанию, еще в 1900 году. Она подверглась существенной переработке в период первого пребывания Швейцера в Тропической Африке (1914--1917) и появилась в печати лишь в 1923 году. Таким образом, становится очевидным, что культурологическая и этическая концепция, развиваемая Швейцером в этой работе, является плодом длительных раздумий, работы критической мысли, многолетнего созревания философской позиции, ставшей основой убеждений и личного поведения. В публикуемой книге эта часть философской системы занимает первые пять глав и содержит общий очерк теории культуры, этики и мировоззрения, которые в своем единстве образуют основы философии культуры А. Швейцера.
Вторая часть философии культуры Швейцера носит название «Культура и этика».
Эта часть работы была написана в начале 20-х годов и вышла из печати в 1923 году. Она состоит из 22 глав, содержание которых тематически разделяется на три больших раздела: общие проблемы теории культуры, этики и мировоззрения; краткая история европейской этической мысли; обоснование новой этики - этики благоговения перед жизнью.
Третья часть философии культуры - «Учение о благоговении перед жизнью»
(1963) --представляет собой расширенное изложение последних шести глав работы «Культура и этика».
Наконец, Швейцер мечтал написать завершающую часть своей философии культуры в виде отдельной работы под названием «Культурное государство»
, но это намерение автора так и осталось неосуществленным.»
«Конечная цель всякой философии и религии состоит в том, чтобы побудить людей к достижению глубокого гуманизма. Самая глубокая философия становится религиозной, и самая глубокая религия становится мыслящей. Они обе выполняют свое назначение только в том случае, если побуждают людей становиться человечными в самом глубоком смысле этого слова »»
«Вот его основные тезисы о кризисе культуры. Общественный характер современного производства оторвал людей от их кормилицы-земли, а городская жизнь все более травмирует человека.
Все более подрывается вера труженика в духовную значимость его труда. Специализация разрушает цельность человека. Несвободный, разобщенный, ограниченный человек находится ныне в буржуазном обществе под угрозой стать негуманным. Процветает индифферентность. Люди слишком легко говорят о войне, и в том числе о войне термоядерной. Полным ходом идет деморализация индивида буржуазным обществом.»
«Швейцер показывает признаки глубокого кризиса в сфере духовной культуры современного буржуазного общества. Он пишет: пропаганда заняла место правды
; историю превратили в культ лжи; сочетание учености с предвзятостью стало обычным; свобода мышления изъята из употребления, ибо миллионы отказываются мыслить, мы даже не осознаем своей духовной нищеты; с отказом от индивидуальности мы вступили в новое средневековье
; духовная жизнь даже выдающихся культурных народов приняла угрожающе монотонное течение по сравнению с минувшими временами. Швейцер верно схватил некоторые существенные черты духовной жизни современного буржуазного общества.»
«Вся концепция культуры Швейцера представляет собой философский протест против шовинизма, расизма, фашизма, милитаризма и войны.»
«Для преодоления трагедии надо, по мысли Швейцера, вновь обратиться к этике, поскольку именно она, а не мировоззрение, то есть не философия и не религия, составляет сущность всякого исторического типа культуры.»
«Сущностью новой этики Швейцер объявляет индивидуальное благоговение перед жизнью. Благоговение перед жизнью составляет сущность новой исторической формы гуманизма, защищаемой Швейцером.»
«Швейцер, по сути дела, на место христианского принципа любви к ближнему поставил свой моральный императив благоговения перед жизнью»/
«Не познание и не практика, а переживание составляет самую существенную связь человека с миром. Первоначалом человеческого бытия является не декартовское «cogito, ergo sum», но значительно более древнее и всеобъемлющее чувство: «Я есть жизнь, которая хочет жить». Само бытие, по Швейцеру, есть универсальная воля к жизни. Поэтому смысл человеческой жизни происходит не от разума и не от самой деятельности, а от воли. Он заключается в благоговейном отношении ко всякой жизни : хорошо - поддерживать, взращивать жизнь, возвышать ее до высшей, то есть человеческой, ценности, плохо - уничтожать жизнь, вредить ей, стеснять ее. Благоговение перед жизнью и оценка человека как высшей ценности составляют, согласно Швейцеру, основу нового гуманизма.
«Воля к жизни дает стимул к действию.»
«Бог для Швейцера имеет смысл только в качестве таинственной воли, направляющей деяния личности в сторону нравственного. В конечном итоге получается, что богом у Швейцера является сам его высший этический принцип благоговения перед жизнью.»
«Личность у Швейцера вовсе не экзистирует, а живет в постоянной борьбе за счастье, и нравственное самосовершенствование личности служит прогрессу всего человечества.»
«Философская позиция Швейцера во многом родственна также и философии жизни В. Дильтея. Их объединяют: оценка жизни как всеобщей ценности - человеческой жизни как высшей ценности, понимание прогресса как духовного, историзм как метод анализа духовных явлений. Но Швейцер не приемлет дильтеевского психологизма и его мотивов социальной этики. В своем очерке истории этики Швейцер проходит мимо этической концепции Дильтея.»
«Своими предшественниками Швейцер называет древних китайских и индийских моралистов, а в XIX веке - Шопенгауэра и Ницше. Они с противоположных позиций разрабатывали этику нравственного самосовершенствования в виде концепций оптимизма (китайские мыслители и Ницше) и пессимизма (индийские мыслители и Шопенгауэр). Полемизируя с ними, Швейцер критически синтезирует некоторые аспекты их этических концепций и на основе этого синтеза строит свою этику и свою концепцию гуманизма. В противоположность Шопенгауэру он высоко оценивает волю к жизни, а в противоположность Ницше он сурово осуждает культ силы. В противоположность им обоим он выступает как страстный гуманист и гневно осуждает войну. Однако теоретическая основа гуманизма Швейцера, как и всей его этики и философии культуры, остается в сущности индивидуалистической: нравственный прогресс личности выступает в роли двигателя и критерия истории мировой культуры и гражданской истории вообще. Это индивидуализм особого рода. Личность служит нравственному прогрессу всего человечества и в своем служении поднимается до героического поведения.»
«Добро выражает деятельность и состоит в активной деятельности человека на пользу другим людям и обществу. Деятельность выражает добро лишь в том случае, если она направлена на совершенствование индивида и общественного устройства. Таким образом, в индивидуалистическую этику Швейцера вторгается решительно поставленный социальный мотив.»
«Злом, говорит Швейцер, является бессмысленное уничтожение жизни. Добро - это содействие жизни. Подобное воззрение находит воплощение только в деятельности. Поэтому благоговение перед жизнью, в понимании Альберта Швейцера, является идентичным ответственности за жизнь, не только просто за жизнь, не только за одиночное существование, но и за достойное человека устройство общества».»

Швейцер А. Культура и этика
Перевод Н.А.Захарченко и Г.В.Колшанского
Общая редакция и предисловие проф. В.А.Карпушина
Москва: "Прогресс", 1973
Albert Schweitzer. Kultur und Ethik. München, 1960
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
ПРЕДИСЛОВИЕ
Часть первая РАСПАД И ВОЗРОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
I. ВИНА ФИЛОСОФИИ В ЗАКАТЕ КУЛЬТУРЫ
II. ВРАЖДЕБНЫЕ КУЛЬТУРЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА В НАШЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ
III. ОСНОВНОЙ ЭТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР КУЛЬТУРЫ
IV. ПУТЬ К ВОЗРОЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ
V. КУЛЬТУРА И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Часть вторая КУЛЬТУРА И ЭТИКА
I. КРИЗИС КУЛЬТУРЫ И ЕГО ДУХОВНАЯ ПРИЧИНА
II. ПРОБЛЕМА ОПТИМИСТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
III. ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
IV. РЕЛИГИОЗНОЕ И ФИЛОСОФСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
V. ЭТИКА И КУЛЬТУРА В ГРЕКО-РИМСКОЙ ФИЛОСОФИИ
VI. ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ЭТИКА В ЭПОХУ РЕНЕССАНСА И ПОСЛЕ
ЭПОХИ РЕНЕССАНСА
VII. ОБОСНОВАНИЕ ЭТИКИ В XVII И XVIII СТОЛЕТИЯХ
VIII. ЗАКЛАДЫВАНИЕ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ В ВЕК РАЦИОНАЛИЗМА
IX. ОПТИМИСТИЧЕСКИ-ЭТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ КАНТА
X. НАТУРФИЛОСОФИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ СПИНОЗЫ И ЛЕЙБНИЦА
XI. ОПТИМИСТИЧЕСКИ-ЭТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И.-Г. ФИХТЕ
XII. ШИЛЛЕР, ГЁТЕ, ШЛЕЙЕРМАХЕР
XIII. НАДЭТИЧЕСКОЕ ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ГЕГЕЛЯ
XIV. ПОЗДНИЙ УТИЛИТАРИЗМ. БИОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА
XV. ШОПЕНГАУЭР И НИЦШЕ
XVI. ИСХОД БОРЬБЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ ЗА МИРОВОЗЗРЕНИЕ
XVII. НОВЫЙ ПУТЬ
XVIII. ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМИЗМА ЧЕРЕЗ ПОНЯТИЕ ВОЛИ К ЖИЗНИ
XIX. ПРОБЛЕМА ЭТИКИ В СВЕТЕ ИСТОРИИ ЭТИКИ
XX. ЭТИКА САМООТРЕЧЕНИЯ И ЭТИКА САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
XXI. ЭТИКА БЛАГОГОВЕНИЯ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ
XXII. КУЛЬТУРОТВОРЯЩАЯ ЭНЕРГИЯ ЭТИКИ БЛАГОГОВЕНИЯ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Имя Альберта Швейцера (1875--1965), "доктора из Ламбарене", лауреата Нобелевской премии, известно всему миру.
Издавая в переводе на русский язык книгу А. Швейцера "Культура и этика", мы знакомим советских читателей со Швейцером - философом, с одной из областей его разносторонней деятельности. Книга написана около сорока лет назад и неоднократно переиздавалась.
Перевод сделан с одного из последних прижизненных изданий. Эта работа представляет собой лишь две части из четырех, которые автор предполагал написать, излагая систему своих взглядов.
Швейцер ставит перед собой задачу пробудить в современном ему обществе стремление к созданию философски обоснованного и практически применимого оптимистически-этического мировоззрения, считая основной причиной упадка культуры в западном обществе отсутствие такого мировоззрения. При этом он полагает, что необходимо отказаться от оптимистически-этической интерпретации мира в любой ее форме, что ни миро- и жизнеутверждение, ни этику невозможно обосновать, исходя из познания мира. Он провозглашает независимость жизневоззрения (этики) от мировоззрения, пессимизм познания и оптимизм действия, практики. Оптимизм этот, как полагает Швейцер, коренится в нашей воле к жизни, наиболее непосредственным и наиболее глубоким проявлением которой является благоговение перед жизнью.
Этическое таит в себе высшую правду и высшую целесообразность. Таковы основные вехи мировоззрения Швейцера.
Значительное место в книге уделено истории этических идей и критическому анализу этических систем (со времен Древней Греции до конца XIX века) с точки зрения провозглашенной Швейцером этики активного самосовершенствования и благоговения перед жизнью.
Швейцеру близки по духу поздние стоики, Кант, рационалисты XVIII века, у которых он прослеживает развитие основного принципа нравственного, противопоставляя их взгляды надэтическому мировоззрению Гегеля с его формулой разумности действительного.
Этический пафос пронизывает и протест Швейцера против "гротескного прогресса" современного западного общества, враждебного подлинной "этической культуре", утратившего этические идеалы, завещанные ему Просвещением и рационализмом XVIII века. Критика Швейцера -- это критика с позиций абстрактного гуманизма; конкретизацией его взглядов стала его практическая деятельность.
Взгляды Швейцера не получили законченного систематического изложения. Практическое претворение в жизнь своих философских принципов занимало его больше, чем их теоретическое обоснование. Поэтому его мировоззрение, его этику нельзя рассматривать в отрыве от его деятельности.
Внутренняя логика его убеждений (пусть далеко не всегда совпадающая с логикой реальной действительности), страстность его веры в торжество добра и человечности, бескорыстное служение принятым идеалам, обая ние его незаурядной личности -- все это внушает глубокое уважение к Альберту Швейцеру.
понятным причинам не может дать, точного диагноза недугов западной культуры, не ставит ее деградацию в прямую связь с кризисом устоев буржуазного общества, не видит реальных путей выхода из этого кризиса.
Для нас неприемлема этическая мистика, которую Швейцер провозглашает единственно непосредственным и единственно глубоким мировоззрением, логическим завершением беспредпосылочного рационального мышления, в качестве обновителя которого он стремится выступить. Путь к жизнеутверждению через этическую мистику и религию уводит в сторону от столбовой дороги развития человечества.
Подробный критический анализ взглядов Швейцера дан в предисловии проф. В. А. Карпушина.
Гл. XXI.
ЭТИКА БЛАГОГОВЕНИЯ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ
Сложны и трудны пути, на которые должно вновь встать заблудшее этическое мышление. Но его дорога будет легка и проста, если оно не повернет на кажущиеся удобными и короткими пути, а сразу возьмет верное направление. Для этого надо соблюсти три условия: первое – никоим образом не сворачивать на дорогу этической интерпретации мира; второе – не становиться космическим и мистическим, то есть всегда понимать этическое самоотречение как проявление внутренней, духовной связи с миром; третье – не предаваться абстрактному мышлению, а оставаться элементарным, понимающим самоотречение ради мира как самоотречение человеческой жизни ради всего живого бытия, к которому они стоит в определенном отношении.
Этика возникает благодаря тому, что я глубоко осознаю мироутверждение, которое наряду с моим жизнеутверждением естественно заложено в моей воле к жизни, и пытаюсь реализовать его в жизни.
Стать нравственной личностью означает стать истинно мыслящим.
Мышление есть происходящая во мне полемика между желанием и познанием. В своей наивной форме эта полемика проявляется тогда, когда воля требует от познания, чтобы оно представило ей мир в такой форме, которая бы соответствовала импульсам, скрытым в воле, и когда познание пытается удовлетворить это требование. На месте этого диалога, заранее обреченного на безрезультатность, должен прийти другой, истинный, в котором воля требовала бы от познания только того, что оно действительно само может познать.
Если познание будет давать только то, что оно может познать, то воля будет получать всегда одно и то же знание, а именно: во всем и во всех явлениях заложена воля к жизни. Постоянно углубляющемуся и расширяющемуся познанию не останется ничего другого, как вести нас все глубже и дальше в тот загадочный мир, который раскрывается перед нами как всесущая воля к жизни. Прогресс науки состоит только в том, что она все точнее описывает явления, в которых обнаруживается многообразная жизнь, открывает нам жизнь там, где мы ее раньше не подозревали, и дает в руки средство, с помощью которого мы можем так или иначе использовать познанный процесс развития воли к жизни. Но ни одна наука не в состоянии сказать, что такое жизнь.
Для миро- и жизневоззрения результаты познания сказываются в том, что человек не в состоянии уже пребывать в бездумье, ибо познание все больше наполняет его тайной вездесущей воли к жизни. Поэтому различие между ученым и неученым весьма относительно. Неученый, преисполненный при виде цветущего дерева тайной вездесущей воли к жизни, обладает большим знанием, чем ученый, который исследует с помощью микроскопа или физическим и химическим путем тысячи форм проявления воли к жизни, но при всем его знании процесса проявления воли к жизни не испытывает никакого волнения перед тайной вездесущей воли к жизни, напротив, полон тщеславия от того, что точно описал кусочек жизни.
Всякое истинное познание переходит в переживание. Я не познаю сущность явлений, но я постигаю их по аналогии с волей к жизни, заложенной во мне. Таким образом, знание о мире становится моим переживанием мира. Познание, ставшее переживанием, не превращает меня по отношению к миру в чисто познающий субъект, но возбуждает во мне ощущение внутренней связи с ним. Оно наполняет меня чувством благоговения перед таинственной волей к жизни, проявляющейся во всем. Оно заставляет меня мыслить и удивляться и ведет меня к высотам благоговения перед жизнью. Здесь оно отпускает мою руку. Дальше оно может уже меня не сопровождать. Отныне моя воля к жизни сама должна найти свою дорогу в мире.
Познание открывает мне мое отношение к миру не тогда, когда пытается возвестить мне, что означают те или иные проявления жизни в масштабе всего мира. Оно не оставляет меня на поверхности, но ведет в глубины. Оно ставит меня внутренне в отношение к миру и заставляет мою волю переживать все, что ее окружает, как волю к жизни.
Философия Декарта исходит из положения "Я мыслю, следовательно, я существую". Это убогое, произвольно выбранное начало уводит ее безвозвратно на путь абстракции. Его философия не находит контакта с этикой и задерживается в мертвом миро- и жизневоззрении. Истинная философия должна исходить из самого непосредственного и всеобъемлющего факта сознания. Этот факт гласит: "Я есть жизнь, которая хочет жить, я есть жизнь среди жизни, которая хочет жить". Это не выдуманное положение. Ежедневно и ежечасно я сталкиваюсь с ним. В каждое мгновение сознания оно появляется предо мной. Как из непересыхающего родника, из него постоянно бьет живое, охватывающее все факты бытия миро- и жизневоззрение. Из него вырастает мистика этического единения с бытием.
Как в моей воле к жизни заключено страстное стремление продолжать жизнь и после таинственного возвышения воли к жизни, стремление, которое обычно называют желанием, и страх перед уничтожением и таинственным принижением воли к жизни, который обычно называют болью, так эти моменты присущи и воле к жизни, окружающей меня, независимо от того, высказывается ли она или остается немой.
Этика заключается, следовательно, в том, что я испытываю побуждение выказывать равное благоговение перед жизнью как по отношению к моей воле к жизни, так и по отношению к любой другой. В этом и состоит основной принцип нравственного. Добро – то, что служит сохранению и развитию жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей.
Фактически можно все, что считается добрым в обычной нравственной оценке отношения человека к человеку, свести к материальному и духовному сохранению и развитию человеческой жизни и к стремлению придать ей высшую ценность. И наоборот, все, что в отношениях людей между собой считается плохим, можно свести в итоге к материальному и духовному уничтожению или торможению человеческой жизни, а также к отсутствию стремления придать жизни высшую ценность. Отдельные определения добра и зла, часто лежащие в разных плоскостях и как будто бы не связанные между собой, оказываются непосредственными сторонами одного и того же явления, как только они раскрываются в общих определениях добра и зла.
Но единственно возможный основной принцип нравственного означает не только упорядочение и углубление существующих взглядов на добро и зло, но и их расширение. Поистине нравствен человек только тогда, когда он повинуется внутреннему побуждению помогать любой жизни, которой он может помочь, и удерживается от того, чтобы причинить живому какой-либо вред. Он не спрашивает, насколько та или иная жизнь заслуживает его усилий, он не спрашивает также, может ли она и в какой степени ощутить его доброту. Для него священна жизнь, как таковая. Он не сорвет листочка с дерева, не сломает ни одного цветка и не раздавит ни одного насекомого. Когда он летом работает ночью при лампе, то предпочитает закрыть окно и сидеть в духоте, чтобы не увидеть ни одной бабочки, упавшей с обожженными крыльями на его стол.
Если, идя после дождя по улице, он увидит червяка, ползущего по мостовой, то подумает, что червяк погибнет на солнце, если вовремя не доползет до земли, где может спрятаться в щель, и перенесет его в траву. Если он проходит мимо насекомого, упавшего в лужу, то найдет время бросить ему для спасения листок или соломинку.
Он не боится, что будет осмеян за сентиментальность. Такова судьба любой истины, которая всегда является предметом насмешек до того, как ее признают. Когда-то считалось глупостью думать, что цветные люди являются действительно людьми и что с ними следует обращаться, как со всеми людьми. Теперь эта глупость стала истиной. Сегодня кажется не совсем нормальным признавать в качестве требования разумной этики внимательное отношение ко всему живому вплоть до низших форм проявления жизни. Но когда-нибудь будут удивляться, что людям потребовалось так много времени, чтобы признать несовместимым с этикой бессмысленное причинение вреда жизни.
Этика есть безграничная ответственность за все, что живет.
По своей всеобщности определение этики как поведения человека в соответствии с идеей благоговения перед жизнью кажется несколько неполным. Но оно есть единственно совершенное. Сострадание слишком узко, чтобы стать понятием нравственности. К этике относится переживание всех состояний и всех побуждений воли к жизни, ее желаний, ее стремления целиком проявить себя в жизни, ее стремления к самосовершенствованию.
Еще больше означает любовь, потому что она одновременно содержит в себе и сострадание, и радость, и взаимное стремление. Но она раскрывает этическое содержание в некотором равенстве, пусть даже естественном и глубоком. Создаваемую этикой солидарность она ставит в отношение аналогии к тому, что иногда временно допускает природа в физическом отношении между двумя полами или между родителями и их потомством.
Мышление должно стремиться сформулировать сущность этического, как такового. В этом случае оно должно определить этику как самоотречение ради жизни, мотивированное чувством благоговения перед жизнью. Если выражение "благоговение перед жизнью" кажется очень общим и недостаточно жизненным, то тем не менее оно является именно таким, которое передает нечто, присущее человеку, впитавшему в себя эту идею. Сострадание, любовь и вообще все, связанное с высоким энтузиазмом, передано в нем адекватно. С неутомимой жизненной энергией чувство благоговения перед жизнью вырабатывает в человеке определенное умонастроение, пронизывая его и привнося в него беспокойство постоянной ответственности. Подобно винту корабля, врезающемуся в воду, благоговение перед жизнью неудержимо толкает человека вперед.
Этика благоговения перед жизнью, возникшая из внутреннего побуждения, не зависит от того, в какой степени она оформляется в удовлетворительное этическое мировоззрение. Она не обязана давать ответ на вопрос, что означает воздействие нравственных людей на сохранение, развитие и возвышение жизни в общем процессе мировых событий. Ее нельзя сбить с толку тем аргументом, что поддерживаемое ею сохранение и совершенствование жизни ничтожно по своей эффективности по сравнению с колоссальной и постоянной работой сил природы, направленных на уничтожение жизни. Но важно, что этика стремится к такому воздействию, и потому можно оставить в стороне все проблемы эффективности ее действий. Для мира имеет значение тот факт, что в мире в образе ставшего нравственным человека проявляется воля к жизни, преисполненная чувством благоговения перед жизнью и готовностью самоотречения ради жизни.
Универсальная воля к жизни постигает себя в моей воле к жизни иначе, чем в других явлениях мира. В них эта воля обнаруживается в качестве некоторой индивидуализации, которая – насколько я могу заметить со стороны является только "проживанием самой себя", но не стремится к единению с другими волями к жизни. Мир представляет собою жестокую драму раздвоения воли к жизни. Одна жизнь утверждает себя за счет другой, одна разрушает другую. Но одна воля к жизни действует против другой только по внутреннему стремлению, но не по убеждению. Во мне же воля к жизни приобрела знание о другой воле к жизни. В ней воплотилось стремление слиться воедино с самой собой и стать универсальной.
Почему же воля к жизни осознает себя только во мне? Связано ли это с тем, что я приобрел способность мыслить обо всем бытии? Куда ведет меня начавшаяся во мне эволюция?
На эти вопросы ответа нет. Для меня навсегда останется загадкой моя жизнь с чувством благоговения перед жизнью в этом мире, в котором созидающая воля одновременно действует как разрушающая воля, а разрушающая – как созидающая.
Мне не остается ничего другого, кроме как придерживаться того факта, что воля к жизни проявляется во мне как воля к жизни, стремящаяся соединиться с другой волей к жизни. Этот факт – мой свет в темноте. Я свободен от того незнания, в котором пребывает мир. Я избавлен от мира. Благоговение перед жизнью наполнило меня таким беспокойством, которого мир не знает. Я черпаю в нем блаженство, которого мне не может дать мир. И когда в этом ином, чем мир, бытии некто другой и я понимаем друг друга и охотно помогаем друг другу там, где одна воля мучила бы другую, то это означает, что раздвоенность воли к жизни ликвидирована.
Если я спасаю насекомое, то, значит, моя жизнь действует на благо другой жизни, а это и есть снятие раздвоенности жизни. Если где-нибудь и каким-либо образом моя жизнь действует на благо другой, то моя бесконечная воля к жизни переживает единение с бесконечным, в котором всякая жизнь едина. Я испытываю радость, которая сохраняет меня от прозябания в пустыне жизни.
Поэтому я воспринимаю в качестве предначертания моей жизни задачу повиноваться высшему откровению воли к жизни во мне. В качестве цели своих действий я выбираю задачу ликвидировать раздвоенность воли к жизни в той мере, в какой это подвластно влиянию моего бытия. Зная только то, что мне необходимо, я оставляю в стороне все загадки мира и моего бытия.
Стремление ко всякой глубокой религии и предчувствие ее содержатся в этике благоговения перед жизнью. Но эта этика не создает законченного мировоззрения и соглашается с тем, что храм должен остаться недостроенным. Она завершает только клирос. Но именно на клиросе и отправляет набожность свою живую и бесконечную службу Богу...
Свою истинность этика благоговения перед жизнью обнаруживает в том, что она постигает в единстве и взаимосвязанности различные проявления этического. Ни одна этика еще не сумела связать воедино стремление к самосовершенствованию, в котором человек использует свои силы не для воздействия вовне, а для работы над самим собой, и активную этику. Этика благоговения перед жизнью смогла это сделать и причем таким образом, что не просто разрешила школьные вопросы, а значительно углубила понимание этики.
Этика есть благоговение перед волей к жизни во мне и вне меня. Из чувства благоговения перед волей к жизни во мне возникает глубокое жизнеутверждение смирения. Я понимаю мою волю к жизни не только как нечто, осуществляющееся в счастливых событиях, но одновременно переживающее самое себя. Если я не дам уйти этому самопереживанию в бездумность, а удержу его как нечто ценное, то я пойму тайну духовного самоутверждения. Я почувствую незнакомую мне до того свободу от судеб жизни. В те мгновения, когда я мог бы думать, что раздавлен, я чувствую себя вознесенным к невыразимому, неожиданно нахлынувшему на меня счастью свободы от мира и испытываю очищение моего жизневоззрения. Смирение – это холл, через который мы вступаем в этику. Только тот, кто в глубоком самоотречении ради собственной воли к жизни испытывает чувство внутренней свободы от всяких событий, способен отдавать свои силы всегда и до конца ради другой жизни.
Я борюсь в своем благоговении перед моей волей к жизни как за свободу от судеб жизни, так и за свободу от самого себя. Я воспитываю в себе высокое чувство самосохранения не только по отношению к тому, что мне встречается, но и по отношению к той форме, в какой я связан с миром. Из чувства благоговения перед своей жизнью я отдаюсь во власть истины по отношению к себе самому. Если бы я действовал вопреки моим убеждениям, то купил бы дорогой ценой все то, чего я добился. Я испытываю страх перед тем, что из-за неверности по отношению к самому себе могу ранить отравленным копьем мою волю к жизни.
То, что Кант поставил во главу угла этики конфликт истины с самой собой, свидетельствует о глубине его этического чувства. Но то, что он в своих поисках существа нравственного не дошел до идеи благоговения перед жизнью, не дало ему возможности увидеть прямую связь между истинностью по отношению к самому себе и активной этикой.
Фактически же этика истинности по отношению к самому себе незаметно переходит в этику самоотречения ради других. Истинность по отношению ко мне самому принуждает меня к действиям, которые проявляются как самоотречение таким образом, что обычная этика выводит их из идеи самоотречения.
Почему я прощаю что-то человеку? Обычная этика говорит: потому что я чувствую сострадание к нему. Она представляет людей в этом прощении слишком хорошими и разрешает им давать прощение, которое не свободно от унижения другого. Таким путем она превращает прощение в сладкий триумф самоотречения.
Благодаря этой не очень благородной идее устраняется этика благоговения перед жизнью. Для нее всякая осмотрительность и всякое прощение есть действия по принуждению истинности по отношению к самому себе. Я должен безгранично все прощать, так как, если не буду этого делать буду неистинен по отношению к себе и буду поступать так, как будто я не в такой же степени виноват, как и другой по отношению ко мне. Поскольку моя жизнь и так сильно запятнана ложью, я должен прощать ложь, совершенную по отношению ко мне. Так как я сам не люблю, ненавижу, клевещу, проявляю коварство и высокомерие, то должен прощать и проявленные по отношению ко мне нелюбовь, ненависть, клевету, коварство, высокомерие. Я должен прощать тихо и незаметно. Я вообще не прощаю, я вообще не довожу дело до этого. Но это есть не экзальтация, а необходимое расширение и усовершенствование обычной этики.
Борьбу против зла, заложенного в человеке, мы ведем не с помощью суда других, а с помощью собственного суда над собой. Борьба с самим собой и собственная правдивость – вот средства, которыми мы воздействуем на других. Мы их незаметно вовлекаем в борьбу за глубокое духовное самоутверждение, проистекающее из благоговения перед собственной жизнью. Сила не вызывает шума. Она просто действует. Истинная этика начинается там, где перестают пользоваться словами.
Самое истинное в активной этике – если она проявляется и как самоотречение – рождается из принуждения собственной правдивости и только в ней приобретает свою истинную цену. Вся этика иного, чем мир, бытия только тогда течет чистым ручьем, когда она берет свое начало из этого родника. Не из чувства доброты по отношению к другому я кроток, миролюбив, терпелив и приветлив – я таков потому, что в этом поведении обеспечиваю себе глубочайшее самоутверждение. Благоговение перед жизнью, которое я испытываю по отношению к моей собственной жизни, и благоговение перед жизнью, в котором я готов отдавать свои силы ради другой жизни, тесно переплетаются между собой.
Так как обычная этика не обладает основным принципом нравственного, она тотчас же бросается в обсуждение этических конфликтов. Этика благоговения перед жизнью не спешит с этим обсуждением. Она использует время для того, чтобы всесторонне продумать основной принцип нравственного. Уверившись в своей правоте, она затем только судит о конфликтах.
Этика должна полемизировать с тремя противниками: бездумностью, эгоистическим самоутверждением и обществом.
На первого противника она обычно не обращает достаточно внимания, поскольку депо никогда не доходит до открытых конфликтов. Но он наносит ей вред незаметно.
Этика может овладеть большой областью, не натолкнувшись при этом на войска эгоизма. Человек может совершить много добра, не требуя для себя никакой жертвы. И если он должен действительно израсходовать изрядно свои жизненные силы, то эти потери он ощущает не больше, чем потерю одного волоса.
В огромных размерах внутреннее освобождение от мира, верность самому себе, иное, чем мир, бытие, даже самоотречение ради другой жизни есть лишь дело внимания, обращенного на это поведение. Мы многое упускаем, потому что не очень заботимся об этом. Мы недостаточно подчиняемся давлению внутреннего побуждения к этическому бытию. Во многих местах вырывается пар из непрочного котла. Возникшие при этом потери энергии в обычной этике очень велики, так как она не располагает единым основным принципом нравственного, воздействующим на мышление. Она не может закрыть щели котла, она даже и не осматривает его.
Однако благоговение перед жизнью, которое всегда приходит на помощь мышлению, всесторонне и глубоко пронизывает всякое впечатление, размышление и решение человека. Человек не может отбросить это благоговение, так же как не может не окраситься вода, когда в нее попадает капля растворимой краски. Борьба с бездумностью разворачивается и продолжается.
Но как ведет себя этика благоговения перед жизнью в конфликтах, которые возникают между внутренним побуждением к самоотречению и необходимостью самоутверждения?
И я подвержен раздвоению воли к жизни. В тысячах форм моя жизнь вступает в конфликт с другими жизнями. Необходимость уничтожать жизнь или наносить вред ей живет также и во мне. Когда я иду по непроторенной тропе, то мои ноги уничтожают крохотные живые существа, обитающие на этой тропе, или причиняют им боль. Чтобы сохранить свою жизнь, я должен оградить себя от других жизней, которые могут нанести мне вред. Так, я могу преследовать мышь, живущую в моей комнате, могу убить насекомое, гнездящееся в доме, могу уничтожить бактерии, которые подвергают мою жизнь опасности. Я добываю себе пищу путем уничтожения растений и животных. Мое счастье строится на вреде другим людям.
Как же оправдывает этика эту жестокую необходимость, которой я подвержен в результате раздвоения воли к жизни?
Обычная этика ищет компромиссов. Она стремится установить, в какой мере я должен пожертвовать моей жизнью и моим счастьем и сколько я должен оставить себе за счет жизни и счастья других жизней. Таким путем она создает прикладную, относительную этику. То, что в действительности отнюдь не является этическим, а только смесью неэтической необходимости и этики, она выдает за этическое. Тем самым она приводит к чудовищному заблуждению, способствует все большему затемнению понятия этического.